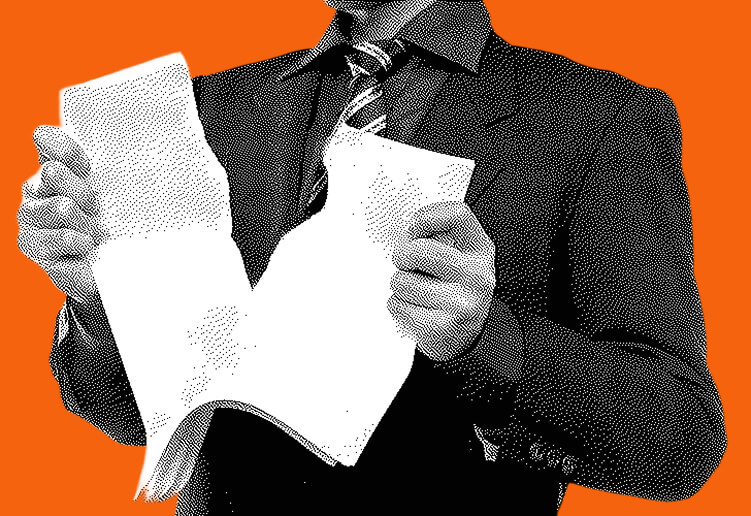›
›
Время повернуть дышло
Время повернуть дышло
Комментарий Вячеслава Калабина для журнала «Эксперт» — выпуск № 17 за 20-26 апреля 2020 года
Откровенно прокредиторская направленность законодательства о банкротстве грозит «обнулением» значительному числу компаний, а активное привлечение предпринимателей к ответу по долгам бизнеса своим личным имуществом уронит и без того невысокую деловую активность.
Цыплят коронакризиса будем считать, как и предписано, осенью, когда закончится мораторий на подачу кредиторами заявлений о банкротстве компаний, разорившихся из- за эпидемии. Уже сейчас прогнозируется массовое закрытие предприятий сферы услуг. Впрочем, серьезные проблемы испытывают и компании из производственных секторов. По данным мониторинга, которые представил бизнес-омбудсмен Борис Титов, более половины опрошенных предприятий малого и среднего бизнеса остановили свою деятельность. Почти все заявляют о снижении спроса на свою продукцию, треть из них говорят о 90-процентном падении спроса, и столько же — о том, что в экономике разворачивается кризис неплатежей. К середине осени, а именно тогда истекает срок шестимесячного моратория на банкротство, стартовавшего в начале апреля, ситуация вряд ли улучшится.
Цыплят коронакризиса будем считать, как и предписано, осенью, когда закончится мораторий на подачу кредиторами заявлений о банкротстве компаний, разорившихся из- за эпидемии. Уже сейчас прогнозируется массовое закрытие предприятий сферы услуг. Впрочем, серьезные проблемы испытывают и компании из производственных секторов. По данным мониторинга, которые представил бизнес-омбудсмен Борис Титов, более половины опрошенных предприятий малого и среднего бизнеса остановили свою деятельность. Почти все заявляют о снижении спроса на свою продукцию, треть из них говорят о 90-процентном падении спроса, и столько же — о том, что в экономике разворачивается кризис неплатежей. К середине осени, а именно тогда истекает срок шестимесячного моратория на банкротство, стартовавшего в начале апреля, ситуация вряд ли улучшится.
1. Отсутствие информации о несогласованных перепланировках и переустройстве недвижимого имущества.
См. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.07.2023 № 09АП-36800/2023 по делу № А40-221725/2020, в котором указан следующий вывод:
«Для заявителя были бы очевидны риски приобретения Помещения, что позволило бы заявителю принять обоснованное решение о приобретении или отказе от приобретения объекта на торгах, об определении возможной стоимости помещения, с учетом затрат на получение разрешения или на демонтаж стен и утрату права в отношении части помещения (комнаты 2 в помещении II в подвале-2), если бы в разрешении на переустройство и перепланировку было отказано.
ГК «АСВ» действуя разумно и осмотрительно, до опубликования сообщения о торгах знало или должно было знать об отсутствии разрешительной документации на перепланировки, о несоответствии площади, а также о важности указанной информации для потенциальных покупателей.
С учетом изложенного, суд признает недействительными торги по продаже имущества ПАО АРКБ "Росбизнесбанк", проведенные 13.01.2022 АО "Российский аукционный дом" посредством публичного предложения в электронной форме, в части продажи лота N 2 (нежилого помещения площадью 159,1 кв. м, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Малая Черкизовская, д. 66, кадастровый номер 77:03:0003024:4517), как реализованные с существенными нарушениями, выразившимися в представлении неполной информации об имуществе, что ввело покупателя в заблуждение.»
«Для заявителя были бы очевидны риски приобретения Помещения, что позволило бы заявителю принять обоснованное решение о приобретении или отказе от приобретения объекта на торгах, об определении возможной стоимости помещения, с учетом затрат на получение разрешения или на демонтаж стен и утрату права в отношении части помещения (комнаты 2 в помещении II в подвале-2), если бы в разрешении на переустройство и перепланировку было отказано.
ГК «АСВ» действуя разумно и осмотрительно, до опубликования сообщения о торгах знало или должно было знать об отсутствии разрешительной документации на перепланировки, о несоответствии площади, а также о важности указанной информации для потенциальных покупателей.
С учетом изложенного, суд признает недействительными торги по продаже имущества ПАО АРКБ "Росбизнесбанк", проведенные 13.01.2022 АО "Российский аукционный дом" посредством публичного предложения в электронной форме, в части продажи лота N 2 (нежилого помещения площадью 159,1 кв. м, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Малая Черкизовская, д. 66, кадастровый номер 77:03:0003024:4517), как реализованные с существенными нарушениями, выразившимися в представлении неполной информации об имуществе, что ввело покупателя в заблуждение.»
Сам, сам, сам…
Дать массового выбытия с рынка субъектов предпринимательской деятельности через механизм банкротства. Ускорение этому процессу придаст институт субсидиарной ответственности (СО), наличие которого стимулирует менеджмент и бенефициаров компаний инициировать обращение в суд, чтобы потом не пришлось отвечать по долгам личными активами.
Под субсидиарную, то есть дополнительную, ответственность подпадает тот, кто по каким-либо причинам обязан рассчитаться по долгам за другого, поскольку сам должник этого сделать не может. В случае с бизнесом, если компания оказалась банкротом и у нее нет денег, чтобы заплатить по своим долгам, они могут быть взысканы с менеджмента, владельцев и других контролирующих должника лиц (КДЛ). Важное условие: привлечение к субсидиарной ответственности возможно только в том случае, если у компании не оказалось средств для расчета с кредиторами именно по вине этих самых лиц. И еще одно важное уточнение состоит в том, что к субсидиарной ответственности могут быть привлечены лица, не имеющие прямого отношения к компании, но зато имеющие возможность влиять на тех, кто принимает решения. Например, родственники.
В счет погашения долга могут быть пущены не только денежные средства, но и имущество виновных в доведении компании до банкротства, которое продадут «с молотка». В общем, закон суров, но… Но проблема в том, что понятие «контро лирующее должника лицо» распространяется на весьма широкий круг лиц, и опрошенные «Экспертом» представители юридического сообщества отмечают, что под СО часто подпадают люди, которых, по справедливости, эта участь должна была бы обойти. Это, в свою очередь, приводит к тому, что предприниматели из двух вариантов — «взять на себя риск и попытаться спасти бизнес под угрозой привлечения к субсидиарной ответственности» и «в случае появления формальных признаков подать заявление о признании компании банкротом» — выбирают второй. Компания обязана в течение месяца с момента появления признаков банкротства (невозможность платить долги, зарплату, налоги и проч.) сама обратиться с заявлением в суд. Если руководитель этого не сделал, он может быть привлечен к субсидиарной ответственности.
Под субсидиарную, то есть дополнительную, ответственность подпадает тот, кто по каким-либо причинам обязан рассчитаться по долгам за другого, поскольку сам должник этого сделать не может. В случае с бизнесом, если компания оказалась банкротом и у нее нет денег, чтобы заплатить по своим долгам, они могут быть взысканы с менеджмента, владельцев и других контролирующих должника лиц (КДЛ). Важное условие: привлечение к субсидиарной ответственности возможно только в том случае, если у компании не оказалось средств для расчета с кредиторами именно по вине этих самых лиц. И еще одно важное уточнение состоит в том, что к субсидиарной ответственности могут быть привлечены лица, не имеющие прямого отношения к компании, но зато имеющие возможность влиять на тех, кто принимает решения. Например, родственники.
В счет погашения долга могут быть пущены не только денежные средства, но и имущество виновных в доведении компании до банкротства, которое продадут «с молотка». В общем, закон суров, но… Но проблема в том, что понятие «контро лирующее должника лицо» распространяется на весьма широкий круг лиц, и опрошенные «Экспертом» представители юридического сообщества отмечают, что под СО часто подпадают люди, которых, по справедливости, эта участь должна была бы обойти. Это, в свою очередь, приводит к тому, что предприниматели из двух вариантов — «взять на себя риск и попытаться спасти бизнес под угрозой привлечения к субсидиарной ответственности» и «в случае появления формальных признаков подать заявление о признании компании банкротом» — выбирают второй. Компания обязана в течение месяца с момента появления признаков банкротства (невозможность платить долги, зарплату, налоги и проч.) сама обратиться с заявлением в суд. Если руководитель этого не сделал, он может быть привлечен к субсидиарной ответственности.
Невиновен? Докажи!
Институт субсидиарной ответственности существует в России с середины 1990-х, но его активное развитие началось только через полтора десятилетия, когда в 2009 году в законе о банкротстве появилась соответствующая глава.
Необходимость ввести в практику СО объяснялась тем, что слишком часто нерадивые менеджеры и собственники, набрав долгов и выведя активы предприятия, просто бросали его выжав досуха. Процедура банкротства для кредиторов ничем не заканчивалась — с пустышки взять нечего. И при этом все понимали, что в реальности конкретный «кто-то» на этом сделал деньги, оставив кредиторам возможность «получить от мертвого осла уши у Пушкина» в качестве компенсации.
Конечно, у кредиторов была возможность привлечь к «субсидиарке» виновных (по их мнению) в «раздербанивании» предприятия. Но проблема в том, что им нужно тогда было доказать суду, что эти лица (на тот момент потенциальными ответчиками могли стать непосредственный руководитель предприятия и контролирующий владелец, если его удастся определить) действительно виновны и именно они, их распоряжения и действия привели к банкротству компании. В условиях, когда у кредиторов нет доступа к внутренним документам компании и невозможно как следует покопаться в ее деятельности, чтобы добыть доказательства неправомерных действий, в большинстве случаев такие попытки были безрезультатны. Поэтому, чтобы не выглядеть носителями этих самых «длинных ушей», потратившими время и деньги впустую, кредиторы часто даже и не выдвигали требований о привлечении к субсидиарной ответственности. Но это не значит, что они смирились с таким положением вещей.
Наибольшие объемы кредиторской задолженности, а вместе с ними и наибольшие лоббистские возможности сосредоточены в руках банков и Федеральной налоговой службы (ФНС). Поскольку доминирующее положение в российской банковской системе у государственных финансовых учреждений, то согласование позиций в части необходимости изменений и их сути, а затем и сами перемены были неотвратимы.
Эти перемены обернулись, по сути, революцией в 2013 году. Если раньше для привлечения к СО кредиторам нужно было доказывать, что действия тех или иных лиц нанесли вред должнику, то теперь ситуация перевернулась. Не кредитор должен доказать суду, что вот этот конкретный товарищ нанес ущерб предприятию, а наоборот: предполагаемый виновник должен представить доказательства своей непричастности к тому, что предприятие оказалось в бедственном положении. Иными словами, появились презумпции вины, то есть до тех пор, пока не будет доказано обратное, подозреваемое лицо считается доведшим предприятие до банкротства. Этому лицу необходимо доказать добросовестность своих действий, что, например, вот этот_договор о поставке продукции по заниженной относительно средней на рынке цене имел свой целью захват большей рыночной доли за счет конкурентов, а не желание обогатиться за счет «отката».
Но и на этом процесс ужесточения законодательства не остановился. В 2017 году были внесены значительные изменения в закон о банкротстве, связанные с субсидиарной ответственностью, а затем появилось разъясняющее постановление Верховного суда РФ. Количество презумпций, то есть оснований, по которым можно привлечь к СО, увеличилось: непорядок в документах, хранение которых обязательно, несвоевременная подача заявления о собственном банкротстве, невнесение сведений в госреестры, получение выгоды от сделки, которая нанесла ущерб кредиторам и так далее.
Расширен также круг тех, кого можно отнести к контролирующим должника лицам и, стало быть, привлекать к субсидиарной ответственности: помимо директора в него могут попасть, например, финансовый директор и главный бухгалтер. Причем этот круг можно неограниченно расширять. Так, ФНС разослала в свои региональные представительства письмо, где указала, что суд может признать кого-либо контролирующим лицом «по любым иным доказанным основаниям, которые прямо в законе не указаны. Этими основаниями могут служить, например, любые неформальные личные отношения, в том числе установленные оперативно-разыскными мероприятиями, например совместное проживание (в том числе состояние в т. н. гражданском браке), длительная совместная служебная деятельность (в том числе военная служба, гражданская служба), совместное обучение (одноклассники, однокурсники) и т. п.». Стоит ли говорить, что в стремлении взыскать недоимки налоговики восприняли это как руководство к действию. Обсудили бизнес-план компании одного из ваших «друзей» в фейсбуке? Он согласился с некоторыми вашими предложениями о его корректировке? Уверены, что теперь вам не придет повестка в суд?
«Люди стали больше бояться, — говорит Дмитрий Игумнов из “Игумнов групп”. — Сейчас налоговая является одним из самых неприятных кредиторов в процедуре банкротства. Доходит до того, что если компания входит в банкротство с задолженностью, выявленной в результате выездной налоговой проверки, и есть решение, по которому компании доначислены налоги, то вероятность привлечения к “субсидиарке” почти стопроцентная». Помимо этого срок привлечения к субсидиарной ответственности контролирующих лиц продлен до трех лет с момента завершения конкурсного производства, то есть распродажи имущества предприятия-должника.
«Конечно, все привыкли к тому, что доказать ответственность практически невозможно. Теперь клиенты плачут: “Бумаг нет, доказать ничего не могу”. Поэтому большинство дел по субсидиарной ответственности проигрывают по одной простой причине — не могут доказать, что банкротство носило объективный характер», — говорит управляющий партнер коллегии адвокатов «Частное право» Максим Колесников.
Быть должным по субсидиарной ответственности значит попасть в крайне неприятное положение, поскольку избавиться от этого долга, кроме как заплатив его, невозможно. Не спасет даже личное банкротство физического лица. Да что там банкротство — даже смерть не спасет.
Как рассказала юрист, кандидат экономических наук Елена Сачко, в конце прошлого года Верховный суд России в ходе рассмотрения одного из дел обозначил четкую позицию: «Субсидиарная ответственность и, соответственно, долги по ней не связаны непосредственно с личностью должника». И поэтому процесс может продолжаться и после смерти, а ответственность по долгам может быть предъявлена ко всей наследственной массе.
Необходимость ввести в практику СО объяснялась тем, что слишком часто нерадивые менеджеры и собственники, набрав долгов и выведя активы предприятия, просто бросали его выжав досуха. Процедура банкротства для кредиторов ничем не заканчивалась — с пустышки взять нечего. И при этом все понимали, что в реальности конкретный «кто-то» на этом сделал деньги, оставив кредиторам возможность «получить от мертвого осла уши у Пушкина» в качестве компенсации.
Конечно, у кредиторов была возможность привлечь к «субсидиарке» виновных (по их мнению) в «раздербанивании» предприятия. Но проблема в том, что им нужно тогда было доказать суду, что эти лица (на тот момент потенциальными ответчиками могли стать непосредственный руководитель предприятия и контролирующий владелец, если его удастся определить) действительно виновны и именно они, их распоряжения и действия привели к банкротству компании. В условиях, когда у кредиторов нет доступа к внутренним документам компании и невозможно как следует покопаться в ее деятельности, чтобы добыть доказательства неправомерных действий, в большинстве случаев такие попытки были безрезультатны. Поэтому, чтобы не выглядеть носителями этих самых «длинных ушей», потратившими время и деньги впустую, кредиторы часто даже и не выдвигали требований о привлечении к субсидиарной ответственности. Но это не значит, что они смирились с таким положением вещей.
Наибольшие объемы кредиторской задолженности, а вместе с ними и наибольшие лоббистские возможности сосредоточены в руках банков и Федеральной налоговой службы (ФНС). Поскольку доминирующее положение в российской банковской системе у государственных финансовых учреждений, то согласование позиций в части необходимости изменений и их сути, а затем и сами перемены были неотвратимы.
Эти перемены обернулись, по сути, революцией в 2013 году. Если раньше для привлечения к СО кредиторам нужно было доказывать, что действия тех или иных лиц нанесли вред должнику, то теперь ситуация перевернулась. Не кредитор должен доказать суду, что вот этот конкретный товарищ нанес ущерб предприятию, а наоборот: предполагаемый виновник должен представить доказательства своей непричастности к тому, что предприятие оказалось в бедственном положении. Иными словами, появились презумпции вины, то есть до тех пор, пока не будет доказано обратное, подозреваемое лицо считается доведшим предприятие до банкротства. Этому лицу необходимо доказать добросовестность своих действий, что, например, вот этот_договор о поставке продукции по заниженной относительно средней на рынке цене имел свой целью захват большей рыночной доли за счет конкурентов, а не желание обогатиться за счет «отката».
Но и на этом процесс ужесточения законодательства не остановился. В 2017 году были внесены значительные изменения в закон о банкротстве, связанные с субсидиарной ответственностью, а затем появилось разъясняющее постановление Верховного суда РФ. Количество презумпций, то есть оснований, по которым можно привлечь к СО, увеличилось: непорядок в документах, хранение которых обязательно, несвоевременная подача заявления о собственном банкротстве, невнесение сведений в госреестры, получение выгоды от сделки, которая нанесла ущерб кредиторам и так далее.
Расширен также круг тех, кого можно отнести к контролирующим должника лицам и, стало быть, привлекать к субсидиарной ответственности: помимо директора в него могут попасть, например, финансовый директор и главный бухгалтер. Причем этот круг можно неограниченно расширять. Так, ФНС разослала в свои региональные представительства письмо, где указала, что суд может признать кого-либо контролирующим лицом «по любым иным доказанным основаниям, которые прямо в законе не указаны. Этими основаниями могут служить, например, любые неформальные личные отношения, в том числе установленные оперативно-разыскными мероприятиями, например совместное проживание (в том числе состояние в т. н. гражданском браке), длительная совместная служебная деятельность (в том числе военная служба, гражданская служба), совместное обучение (одноклассники, однокурсники) и т. п.». Стоит ли говорить, что в стремлении взыскать недоимки налоговики восприняли это как руководство к действию. Обсудили бизнес-план компании одного из ваших «друзей» в фейсбуке? Он согласился с некоторыми вашими предложениями о его корректировке? Уверены, что теперь вам не придет повестка в суд?
«Люди стали больше бояться, — говорит Дмитрий Игумнов из “Игумнов групп”. — Сейчас налоговая является одним из самых неприятных кредиторов в процедуре банкротства. Доходит до того, что если компания входит в банкротство с задолженностью, выявленной в результате выездной налоговой проверки, и есть решение, по которому компании доначислены налоги, то вероятность привлечения к “субсидиарке” почти стопроцентная». Помимо этого срок привлечения к субсидиарной ответственности контролирующих лиц продлен до трех лет с момента завершения конкурсного производства, то есть распродажи имущества предприятия-должника.
«Конечно, все привыкли к тому, что доказать ответственность практически невозможно. Теперь клиенты плачут: “Бумаг нет, доказать ничего не могу”. Поэтому большинство дел по субсидиарной ответственности проигрывают по одной простой причине — не могут доказать, что банкротство носило объективный характер», — говорит управляющий партнер коллегии адвокатов «Частное право» Максим Колесников.
Быть должным по субсидиарной ответственности значит попасть в крайне неприятное положение, поскольку избавиться от этого долга, кроме как заплатив его, невозможно. Не спасет даже личное банкротство физического лица. Да что там банкротство — даже смерть не спасет.
Как рассказала юрист, кандидат экономических наук Елена Сачко, в конце прошлого года Верховный суд России в ходе рассмотрения одного из дел обозначил четкую позицию: «Субсидиарная ответственность и, соответственно, долги по ней не связаны непосредственно с личностью должника». И поэтому процесс может продолжаться и после смерти, а ответственность по долгам может быть предъявлена ко всей наследственной массе.
Когда KPI министра важнее
Как уже было сказано, введение института субсидиарной ответственности призвано убрать с рынка недобросовестных участников — тех, кто работает через фирмы-однодневки, вводит кредиторов в заблуждение, набирая заведомо невозвратные кредиты, «кидает» партнеров и т. д.
Но по мнению директора Российской школы частного права Андрея Егорова, в данном случае происходит борьба с последствиями: решением проблемы могло бы стать увеличение уставного капитала (сейчас минимальный взнос в уставный капитал, необходимый для открытия юридического лица в форме общества с ограниченной ответственностью, составляет 10 тыс. рублей). Увеличение уставного капитала до какой-то ощутимо большей суммы еще на первом этапе способно остановить недобросовестных участников, которые просто не смогли собрать достаточное количество средств для регистрации компании. Это сократило бы и число фирм-однодневок, используемых в том числе для обналичивания средств.
«Люди привыкли создавать “ооошки” (компании с юридическим статусом “общество с ограниченной ответственностью”. — “Эксперт”) за десять тысяч рублей и бросать их при необходимости. А если бы они вкладывали большую сумму денег, было бы затратно их бросать и не было бы такого числа однодневок, — рассуждает Андрей Егоров, — Если бы у нас был поднят уставный капитал, то у юридического лица были бы какие-то более или менее значимые активы. И если они пропали, то проще спрашивать с директора».
С этим согласен и Дмитрий Игумнов: «Если бы уставный капитал был минимум пять миллионов рублей и человек был вынужден на старте вкладывать в бизнес больше, то, с одной стороны, он бы знал, что у него нет возможности раз в два-три года это юридическое лицо бросать, с другой — его степень ответственности ограничена этими пятью миллионами. Четкие и понятные риски».
По словам Андрея Егорова, против увеличения уставного капитала выступило Минэкономразвития. Один из аргументов состоял в том, что увеличение уставного капитала приведет к увеличению срока, необходимого для создания юридического лица. А это один из критериев оценки предпринимательского климата в России. Позиции страны в рейтинге Doing Business Всемирного банка снизится, а уже это повлияет на KPI министра. Впрочем, против новации об увеличении уставного капитала выступал и бизнес, мотивируя это примерно так же — увеличением входного порога.
«Кричали: “Не надо нам уставный капитал поднимать!” Вот и прилетела субсидиарная ответственность. Непрогнозируемая. Если бы люди знали, что введут субсидиарную ответственность, то все бы проголосовали за уставный капитал, заплатили бы его и спали спокойно. Представьте: вы участник юридического лица, пятьдесят процентов у вас, пятьдесят процентов у жены. Вложились в семейный бизнес. Потом директор проворовался, но вы — контролирующее лицо. И включается презумпция. Вы просто попадаете. А так — внес определенные деньги в капитал, и всё: прогорел — значит прогорел. Потерял только то, что внес».
Не так будет обидно (хотя здесь это, наверное, здесь не самое удачное выражение), если к СО привлекут за тот бизнес, который вы действительно могли контролировать, имея долю участия в пятьдесят процентов и более. Но в законе написано, что если лицо «имело право самостоятельно или совместно с заинтересованными лицами распоряжаться пятьюдесятью и более процентами», то оно может быть привлечено к субсидиарной ответственности. Главное тут «совместно с заинтересованными». То есть вас позвали в бизнес, на пять, допустим, процентов. По-дружески помочь запустить хорошее дело малой долей участия. Но ваши пять процентов и пять еще одного вашего товарища и сорок пять — третьего в сумме дают более пятидесяти процентов. Дело прогорело. Без всякого вашего участия. Но: имели возможность распоряжаться? Будьте любезны ответить.
Но по мнению директора Российской школы частного права Андрея Егорова, в данном случае происходит борьба с последствиями: решением проблемы могло бы стать увеличение уставного капитала (сейчас минимальный взнос в уставный капитал, необходимый для открытия юридического лица в форме общества с ограниченной ответственностью, составляет 10 тыс. рублей). Увеличение уставного капитала до какой-то ощутимо большей суммы еще на первом этапе способно остановить недобросовестных участников, которые просто не смогли собрать достаточное количество средств для регистрации компании. Это сократило бы и число фирм-однодневок, используемых в том числе для обналичивания средств.
«Люди привыкли создавать “ооошки” (компании с юридическим статусом “общество с ограниченной ответственностью”. — “Эксперт”) за десять тысяч рублей и бросать их при необходимости. А если бы они вкладывали большую сумму денег, было бы затратно их бросать и не было бы такого числа однодневок, — рассуждает Андрей Егоров, — Если бы у нас был поднят уставный капитал, то у юридического лица были бы какие-то более или менее значимые активы. И если они пропали, то проще спрашивать с директора».
С этим согласен и Дмитрий Игумнов: «Если бы уставный капитал был минимум пять миллионов рублей и человек был вынужден на старте вкладывать в бизнес больше, то, с одной стороны, он бы знал, что у него нет возможности раз в два-три года это юридическое лицо бросать, с другой — его степень ответственности ограничена этими пятью миллионами. Четкие и понятные риски».
По словам Андрея Егорова, против увеличения уставного капитала выступило Минэкономразвития. Один из аргументов состоял в том, что увеличение уставного капитала приведет к увеличению срока, необходимого для создания юридического лица. А это один из критериев оценки предпринимательского климата в России. Позиции страны в рейтинге Doing Business Всемирного банка снизится, а уже это повлияет на KPI министра. Впрочем, против новации об увеличении уставного капитала выступал и бизнес, мотивируя это примерно так же — увеличением входного порога.
«Кричали: “Не надо нам уставный капитал поднимать!” Вот и прилетела субсидиарная ответственность. Непрогнозируемая. Если бы люди знали, что введут субсидиарную ответственность, то все бы проголосовали за уставный капитал, заплатили бы его и спали спокойно. Представьте: вы участник юридического лица, пятьдесят процентов у вас, пятьдесят процентов у жены. Вложились в семейный бизнес. Потом директор проворовался, но вы — контролирующее лицо. И включается презумпция. Вы просто попадаете. А так — внес определенные деньги в капитал, и всё: прогорел — значит прогорел. Потерял только то, что внес».
Не так будет обидно (хотя здесь это, наверное, здесь не самое удачное выражение), если к СО привлекут за тот бизнес, который вы действительно могли контролировать, имея долю участия в пятьдесят процентов и более. Но в законе написано, что если лицо «имело право самостоятельно или совместно с заинтересованными лицами распоряжаться пятьюдесятью и более процентами», то оно может быть привлечено к субсидиарной ответственности. Главное тут «совместно с заинтересованными». То есть вас позвали в бизнес, на пять, допустим, процентов. По-дружески помочь запустить хорошее дело малой долей участия. Но ваши пять процентов и пять еще одного вашего товарища и сорок пять — третьего в сумме дают более пятидесяти процентов. Дело прогорело. Без всякого вашего участия. Но: имели возможность распоряжаться? Будьте любезны ответить.
Когда не хочется работать
Институт субсидиарной ответственности нарушает сам принцип ограниченной ответственности юридического лица, смысл которой в том, что предприниматель рискует суммой, вложенной в уставный капитал. «Как такового понятия общества с ограниченной ответственностью сейчас уже нет, — сетует Дмитрий Игумнов. — Общества с ограниченной ответственностью стали обществами с безграничной ответственностью».
«Здесь есть вопрос конституционности, — рассуждает Андрей Егоров. — Когда люди до всех этих изменений создавали бизнес, регистрировали юридическое лицо в форме ООО, они понимали ограниченную ответственность, понимали, что в случае неудачи рискуют бизнесом, но не своей личной ответственностью по долгам. А тут им говорят: нет, ребята, если банкротство вводится после определенной даты в 2017 году, то вы отвечаете».
Впрочем, на этом претензии Андрея Егорова к институту СО не заканчиваются.
«Ключевая моя претензия к субсидиарной ответственности в том, что создан дублер деликтной ответственности (ответственность за причинение вреда. — “Эксперт”). Мы это говорили тем людям, которые писали закон о банкротстве: зачем вы это делаете? Нам отвечали: ваша деликтная ответственность не работает, мы с директоров взыскать ничего не можем, с участников не можем, корпоративное право не дает эффективного механизма. Мы хотели предложить альтернативу, чтобы была не субсидиарная ответственность, а взыскание с тех, кто причинил вред. По классическим канонам их надо бы хватать».
Участники рынка считают, что применение субсидиарной ответственности по широкому кругу поводов к широкому же кругу лиц отбивает охоту заниматься предпринимательской деятельностью.
«История о том, что участник отвечает только в части своей доли, уходит в прошлое, — говорит главный редактор журнала “Арбитражная практика” Андрей Набережный. — Сейчас любой участник или руководитель компании рискует всем. Предприниматели никак не защищены от ошибок, поэтому после ужесточения положений о субсидиарной ответственности уменьшилось число людей, которые готовы начинать новый бизнес. Законодательство не просто ограничивает активность, оно делает ее опасней. Теперь предприниматель — это самый отважный человек, поскольку у него нет права на ошибку. Если бизнес не пойдет, то придется расплачиваться ему».
Опасаются субсидиарной ответственности не только те, кто готов вкладываться в создание и развитие собственного бизнеса, но и наемные менеджеры — потенциальные главы компаний, финансовые директора, главные бухгалтеры и многие другие, кто может быть признан КДЛ и привлечен к субсидиарной ответственности в случае неудачи, переоценки своих сил и предпринимательского риска. Или кризиса.
«Особенно это касается топ-менеджеров банков, — говорит Дмитрий Игумнов. — Все чаще топы стараются переместиться на какие-то формальные должности, пересмотреть свои полномочия и обязанности, чтобы потом иметь шанс хоть каким-то боком выйти из-под понятия КДЛ. Это тоже говорит о том, что бизнес боится, люди боятся брать на себя ответственность».
Как справедливо указывают участники рынка, в постановлении пленума Верховного суда РФ четко указано, что привлечение к СО должно рассматриваться в исключительных случаях. Но проблема в том, что это стало повсеместной практикой, отмечает старший юрист компании «Прецедент консалтинг» Яна Салата и предлагает закрепить положение об исключительности этого института в федеральном законе, а не в постановлении пленума.
Александр Павловский, партнер юридической компании AT Legal, также уверен, что «институт субсидиарной ответственности постепенно перестает быть исключительным механизмом и экстренной мерой, применяемой при очевидных злоупотреблениях и в целях восстановления нарушенных прав кредиторов, а становится дамокловым мечем для менеджмента и бенефициарных собственников бизнеса; но, что еще хуже, он начинает затрагивать лиц, не имеющих как формального, так и фактического отношения к должнику».
Кредиторы в желании получить свои деньги и пытаясь захватить в сети субсидиарной ответственности максимальное число тех, кого можно было бы признать контролирующим должника лицом, закидывают их широким махом: вдруг кто-нибудь, да попадется.
Кстати говоря, как отмечает генеральный директор юридического бюро «Падва и Эпшейн» Павел Герасимов, свою лепту вносят не только кредиторы: в некоторых делах заявления о привлечении к СО подаются даже и при отсутствии оснований, ради подачи, чтобы, например, арбитражного управляющего не обвинили в бездействии и не привлекли к ответственности. В итоге более чем в половине случаев банкротства компаний кредиторы инициируют привлечение КДЛ к субсидиарной ответственности (см. график 3).
Все это не способствует улучшению делового климата и предпринимательской активности.
«По нашей практике, из десяти человек, пришедших к нам по вопросу защиты от “субсидиарки”, девять попали в эту ситуацию случайно и без умысла, — говорит Дмитрий Игумнов, — Предприниматель, которого хоть раз привлекли по долгам компании к "субсидиарке", второй раз в историю с созданием компании и бизнеса уже вряд ли полезет. Или, по крайней мере, сильно подумает, прежде чем снова что-то открывать».
«Здесь есть вопрос конституционности, — рассуждает Андрей Егоров. — Когда люди до всех этих изменений создавали бизнес, регистрировали юридическое лицо в форме ООО, они понимали ограниченную ответственность, понимали, что в случае неудачи рискуют бизнесом, но не своей личной ответственностью по долгам. А тут им говорят: нет, ребята, если банкротство вводится после определенной даты в 2017 году, то вы отвечаете».
Впрочем, на этом претензии Андрея Егорова к институту СО не заканчиваются.
«Ключевая моя претензия к субсидиарной ответственности в том, что создан дублер деликтной ответственности (ответственность за причинение вреда. — “Эксперт”). Мы это говорили тем людям, которые писали закон о банкротстве: зачем вы это делаете? Нам отвечали: ваша деликтная ответственность не работает, мы с директоров взыскать ничего не можем, с участников не можем, корпоративное право не дает эффективного механизма. Мы хотели предложить альтернативу, чтобы была не субсидиарная ответственность, а взыскание с тех, кто причинил вред. По классическим канонам их надо бы хватать».
Участники рынка считают, что применение субсидиарной ответственности по широкому кругу поводов к широкому же кругу лиц отбивает охоту заниматься предпринимательской деятельностью.
«История о том, что участник отвечает только в части своей доли, уходит в прошлое, — говорит главный редактор журнала “Арбитражная практика” Андрей Набережный. — Сейчас любой участник или руководитель компании рискует всем. Предприниматели никак не защищены от ошибок, поэтому после ужесточения положений о субсидиарной ответственности уменьшилось число людей, которые готовы начинать новый бизнес. Законодательство не просто ограничивает активность, оно делает ее опасней. Теперь предприниматель — это самый отважный человек, поскольку у него нет права на ошибку. Если бизнес не пойдет, то придется расплачиваться ему».
Опасаются субсидиарной ответственности не только те, кто готов вкладываться в создание и развитие собственного бизнеса, но и наемные менеджеры — потенциальные главы компаний, финансовые директора, главные бухгалтеры и многие другие, кто может быть признан КДЛ и привлечен к субсидиарной ответственности в случае неудачи, переоценки своих сил и предпринимательского риска. Или кризиса.
«Особенно это касается топ-менеджеров банков, — говорит Дмитрий Игумнов. — Все чаще топы стараются переместиться на какие-то формальные должности, пересмотреть свои полномочия и обязанности, чтобы потом иметь шанс хоть каким-то боком выйти из-под понятия КДЛ. Это тоже говорит о том, что бизнес боится, люди боятся брать на себя ответственность».
Как справедливо указывают участники рынка, в постановлении пленума Верховного суда РФ четко указано, что привлечение к СО должно рассматриваться в исключительных случаях. Но проблема в том, что это стало повсеместной практикой, отмечает старший юрист компании «Прецедент консалтинг» Яна Салата и предлагает закрепить положение об исключительности этого института в федеральном законе, а не в постановлении пленума.
Александр Павловский, партнер юридической компании AT Legal, также уверен, что «институт субсидиарной ответственности постепенно перестает быть исключительным механизмом и экстренной мерой, применяемой при очевидных злоупотреблениях и в целях восстановления нарушенных прав кредиторов, а становится дамокловым мечем для менеджмента и бенефициарных собственников бизнеса; но, что еще хуже, он начинает затрагивать лиц, не имеющих как формального, так и фактического отношения к должнику».
Кредиторы в желании получить свои деньги и пытаясь захватить в сети субсидиарной ответственности максимальное число тех, кого можно было бы признать контролирующим должника лицом, закидывают их широким махом: вдруг кто-нибудь, да попадется.
Кстати говоря, как отмечает генеральный директор юридического бюро «Падва и Эпшейн» Павел Герасимов, свою лепту вносят не только кредиторы: в некоторых делах заявления о привлечении к СО подаются даже и при отсутствии оснований, ради подачи, чтобы, например, арбитражного управляющего не обвинили в бездействии и не привлекли к ответственности. В итоге более чем в половине случаев банкротства компаний кредиторы инициируют привлечение КДЛ к субсидиарной ответственности (см. график 3).
Все это не способствует улучшению делового климата и предпринимательской активности.
«По нашей практике, из десяти человек, пришедших к нам по вопросу защиты от “субсидиарки”, девять попали в эту ситуацию случайно и без умысла, — говорит Дмитрий Игумнов, — Предприниматель, которого хоть раз привлекли по долгам компании к "субсидиарке", второй раз в историю с созданием компании и бизнеса уже вряд ли полезет. Или, по крайней мере, сильно подумает, прежде чем снова что-то открывать».
В поисках баланса
Максим Колесников подчеркивает, что, по крайней мере по его практике, тот, кто ведет честный бизнес, в итоге, пройдя через арбитражный процесс, не привлекается судом к субсидиарной ответственности. С ним солидарен Вячеслав Калабин, партнер юридического бюро Indemnity: «Важно понимать, что субсидиарная ответственность направлена в первую очередь против недобросовестных лиц. Закон жесткий, но он защищает частные интересы кредиторов, которые раньше теряли свои деньги из-за недобросовестных лиц. Для развития экономики гражданский оборот должен быть прогнозируемым и стабильным, а кредиторы должны рассчитывать на оплату долгов в случае недобросовестного поведения контрагента».
Надо сказать, что количество заявлений о привлечении к СО растет. Как и суммы взысканий (см. графики 1 и 2). Но вот проблема: доля фактически полученного кредиторами от взысканий низка — порядка пяти процентов. Генеральный директор компании «Легал Райт» Максим Юзифович связывает это с тем, что большая часть удовлетворенных требований приходится на менеджеров банков, которые зачастую успевают вывести свои активы в офшорные юрисдикции, ввиду чего дальнейший их розыск и возврат становится затруднительным.
Предпринимательства без риска не бывает. В какой-то момент он может подвести предприятие к формальным признакам банкротства, и тут перед управляющим встанет дилемма, о которой сказано выше: пойти дальше в надежде, что все выправится, или сдаться на милость суда и кредиторов.
«Я всегда директорам, которых консультирую, говорю: вот как только ты перестал платить кредиторам, они стали для тебя главнее, чем акционеры, — говорит Максим Колесников. — Ты теперь на них работаешь, а не на акционеров. Потому что они могут спасти тебя от “субсидиарки” и сохранить твое личное имущество, а акционеры — нет». Но проблема в том, что у потенциального должника, вернее его владельцев и менеджмента, разные интересы с кредиторами и арбитражным управляющим. Последние, как правило, мало что понимают в бизнесе конкретного предприятия, и его передача под их управление с большой долей вероятности ухудшит ситуацию. Есть достаточное количество примеров, когда, преследуя цель побыстрее вернуть свои деньги, кредиторы выводили предприятие на продажу, в то время как его финансовое положение стабилизировалось, оно даже начинало работать с прибылью, которая могла бы позволить рассчитаться по долгам, пусть и не сразу.
«Проблема в отсутствии в законе о банкротстве эффективных реабилитационных процедур, — объясняет Максим Колесников. — Дубину — субсидиарную ответственность, которой машет кредитор: “Будешь меня обманывать — будешь лично отвечать всем, что у тебя есть, причем не спишешь долг никогда”, — в закон положили. А вот про пряник забыли. В законе не предусмотрены процедуры, позволяющие реабилитировать, восстановить бизнес, как-то воздействовать на кредиторов с тем, чтобы получить отсрочку по выплатам, например». То, что закон о банкротстве носит откровенно прокредиторский характер, общепризнано.
Текущий кризис приведет к финансовой несостоятельности значительное число предприятий. В преддверии этого, представляется, имеет смысл сбалансировать существующее законодательство с тем, чтобы не отбить той же «субсидиаркой» желание разорившихся не по своей вине предпринимателей использовать новый шанс на создание и развитие своего дела. Ну и уменьшить степень тревожности и стресса у тех, кто продолжает работать, удерживая компании на плаву.
Надо сказать, что количество заявлений о привлечении к СО растет. Как и суммы взысканий (см. графики 1 и 2). Но вот проблема: доля фактически полученного кредиторами от взысканий низка — порядка пяти процентов. Генеральный директор компании «Легал Райт» Максим Юзифович связывает это с тем, что большая часть удовлетворенных требований приходится на менеджеров банков, которые зачастую успевают вывести свои активы в офшорные юрисдикции, ввиду чего дальнейший их розыск и возврат становится затруднительным.
Предпринимательства без риска не бывает. В какой-то момент он может подвести предприятие к формальным признакам банкротства, и тут перед управляющим встанет дилемма, о которой сказано выше: пойти дальше в надежде, что все выправится, или сдаться на милость суда и кредиторов.
«Я всегда директорам, которых консультирую, говорю: вот как только ты перестал платить кредиторам, они стали для тебя главнее, чем акционеры, — говорит Максим Колесников. — Ты теперь на них работаешь, а не на акционеров. Потому что они могут спасти тебя от “субсидиарки” и сохранить твое личное имущество, а акционеры — нет». Но проблема в том, что у потенциального должника, вернее его владельцев и менеджмента, разные интересы с кредиторами и арбитражным управляющим. Последние, как правило, мало что понимают в бизнесе конкретного предприятия, и его передача под их управление с большой долей вероятности ухудшит ситуацию. Есть достаточное количество примеров, когда, преследуя цель побыстрее вернуть свои деньги, кредиторы выводили предприятие на продажу, в то время как его финансовое положение стабилизировалось, оно даже начинало работать с прибылью, которая могла бы позволить рассчитаться по долгам, пусть и не сразу.
«Проблема в отсутствии в законе о банкротстве эффективных реабилитационных процедур, — объясняет Максим Колесников. — Дубину — субсидиарную ответственность, которой машет кредитор: “Будешь меня обманывать — будешь лично отвечать всем, что у тебя есть, причем не спишешь долг никогда”, — в закон положили. А вот про пряник забыли. В законе не предусмотрены процедуры, позволяющие реабилитировать, восстановить бизнес, как-то воздействовать на кредиторов с тем, чтобы получить отсрочку по выплатам, например». То, что закон о банкротстве носит откровенно прокредиторский характер, общепризнано.
Текущий кризис приведет к финансовой несостоятельности значительное число предприятий. В преддверии этого, представляется, имеет смысл сбалансировать существующее законодательство с тем, чтобы не отбить той же «субсидиаркой» желание разорившихся не по своей вине предпринимателей использовать новый шанс на создание и развитие своего дела. Ну и уменьшить степень тревожности и стресса у тех, кто продолжает работать, удерживая компании на плаву.
Николай Ульянов
Успешные кейсы
Признание фиктивной сделки супруга на $1,2 млн для защиты доли в совместном имуществе
Возврат помещений на 200 млн руб. через оспаривание цепочки сделок при банкротстве
Возврат 8 млн руб., выведенных директором через аффилированных лиц, и исключение недобросовестных партнёров по бизнесу
Сохранение доли в бизнесе: отбита попытка принудительного выкупа доли по нотариальной оферте
Защита миноритарного участника от корпоративного захвата в обществе, занимающемся переработкой отходов нефтепродуктов



Обсудим Вашу сделку?
Получите анализ вашей ситуации с учётом актуальной судебной практики
Быстрая связь в мессенджерах:
Оставьте свои контакты и кратко опишите ситуацию — я свяжусь с вами любым удобным способом и мы обсудим детали:

Подписывайтесь на мой телеграм-канал об оспаривании сделок